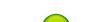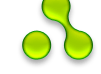О последней (тайной) любви Лермонтова можно говорить уверенно благодаря С.В.Житомирской – исследовательнице разрозненного, сумбурного творчества Александры Осиповны Смирновой-Россет (1809–1882). Житомирская подготовила самое полное и авторитетное издание ее литературного наследия: "A.O.Смирнова-Россет. Дневник. Воспоминания» (М., «Наука», 1989). Комментарии к текстам занимают примерно треть объёма этой книги.
И счастливому, и горькому роману между Смирновой-Россет и Лермонтовым посвящено мое исследование: "Александра и Михаил. Последняя любовь Лермонтова" (М., Профиздат, 2005, 2008, 2014). Кроме того, в Интернете есть сайт с повестью "Штосс", в основе сюжета которой – гениально превращённая в мистическую история отношений между Лермонтовым и Смирновой; на том же сайте – две мои статьи о "Штоссе". Это сайт: http://mlermontov2014.narod.ru
Читателя, который хочет познакомиться с историей взаимоотношений между поэтом и одной из красивейших женщин Петербурга подробнее, отсылаю к этим "источникам". А здесь остановлюсь лишь на основных вехах судьбы Александры Осиповны и связанных с ее судьбой произведениях Лермонтова.
Его любовь к Александрине (как звали ее друзья) была не менее серьёзной, глубокой, в конечном счёте и мучительной, чем к Варваре Лопухиной. Ей посвящено немало стихотворений 1838–1841 годов; ее рассказами о первых годах фрейлинской службы навеяна поэма с условным названием "Сказка для детей" (1840); их отношениям, как я уже сказала, посвящена повесть "Штосс" (1841), к сожалению, не завершённая. А сама Александра Осиповна в 1870-х годах написала несколько вариантов мемуарного романа «Биография Александры Осиповны Чаграновой»; исследователи ее творчества назвали это произведение "Баденский роман" – по условному месту действия в нём.
Фамилию для своей героини Смирнова взяла из второго тома "Мёртвых душ" Гоголя, к тому времени уже давно уничтоженного автором. Прототипом красавицы Чаграновой была она, Александра Осиповна. В красавицу влюблён "светский лев" Платонов, прототипом которого был Лермонтов. Эту гипотезу я обосновываю в книге "Александра и Михаил. Последняя любовь Лермонтова", в главе о Гоголе. Еще более подробно обоснована и в этой книге, и в статьях о повести "Штосс" гипотеза о том, что условное имя Николая Киселёва используется в "Баденском романе" для рассказа о Лермонтове.
Смирнова-Россет, замужняя женщина с детьми, не могла говорить о взаимной любви с поэтом открыто, поэтому дала главному герою своего полудокументального, полувымышленного романа фамилию дальнего родственника мужа – Киселёв. Семья Смирновых и Николай Киселёв одновременно отдыхали в Баден-Бадене в 1836 году, а если в дальнейшем и встречались, то очень редко. Ко времени создания "Баденского романа" и Николай Киселёв, и муж Александры Осиповны Николай Смирнов уже скончались, то есть опровергнуть ее вымысел о "Киселёве" было некому.
Александра Россетти (такова ее подлинная фамилия) окончила Екатерининское училище благородных девиц и в 1826 году стала фрейлиной императрицы-матери Марии Федоровны (вдовы Павла I). В 1828 году Мария Федоровна скончалась и Сашеньку взяла к себе царствующая императрица Александра Федоровна (супруга Николая I).
В 1830 году императрица, спасая юную красавицу от притязаний своего венценосного супруга, настаивает на ее замужестве и сама находит ей мужа – молодого дипломата Николая Михайловича Смирнова (1807–1870); впоследствии он стал послом в Германии, калужским, затем петербургским гражданским губернатором, сенатором, камергером (придворный чин высокого ранга). В начале 1832 года состоялась свадьба. Первый ребенок погиб, чудом удалось спасти мать; впрочем, не «чудом», а благодаря ее силе духа, мужеству. В 1834 году у Александры Осиповны родилась двойня – две девочки, Александра и Ольга. Александра очень рано умерла (в два с половиной года), а Ольга жила с матерью до самой ее кончины. Оставшись одна, Ольга "переписала" на свой лад Записки Александры Осиповны, будучи, в отличие от свободомыслящей матери, убеждённой монархисткой.
Своей близостью ко Двору Александра Осиповна пользовалась прежде всего для помощи друзьям – Пушкину, Лермонтову (с риском для себя и безрезультатно, но все-таки попыталась спасти его от повторной ссылки) и больше всего – Гоголю: для него она в 40-х годах добивалась публикаций, постановок, даже субсидий от казны, сама помогала ему деньгами. Сблизило ее с Гоголем одно обстоятельство, о котором я скажу позже, и – вера, глубокая религиозность.
В поэме Лермонтова "Сказка для детей" отражены впечатления 17-летней фрейлины, попавшей в «роскошные покои» дворца с мраморными колоннами, где она порой «сходила в длинный зал, // Но бегать в нем ей как-то страшно было». Юная героиня «Сказки для детей», как и мистическая героиня «Штосса», – в полной власти старика-отца, владельца «старинного дома». Возможно, она оказалась бы и в центре романа-трилогии о трёх царствованиях, задуманного Лермонтовым, а пока стала героиней поэмы, в 1841 году продолженной в прозе (т.е. «Сказку для детей» я считаю первоначальной разработкой «Штосса»).
"Сказка для детей" осталась незаконченной, видимо, потому, что с января 1840 года Лермонтову не давали работать: взлёт интриг после новогоднего бала 1840 года – дуэль – ссылка – кавказские военные экспедиции – короткая передышка в Петербурге и снова ссылка – и опять дуэль... Но он заказал копию начальных строф поэмы, выправил ее, а потом, видимо, Александрина плакала над этими строфами, посвящёнными ее юности – далекой юности «утренней звезды на туманном востоке».
"Штосс" тоже не был завершён. Три главы, которые Лермонтов успел написать, интересны не только мистико-фантастическим сюжетом, но и легко узнаваемыми прототипами героев – как «реальных» (художник Лугин, фрейлина Минская), так и мистических (старик и юная барышня, своего рода Кощей Бессмертный и пленённая им царевна). В альбомах Лермонтова 1840–1841 годов имеются лаконичные наброски сюжета: «У дамы: лица жёлтые. Адрес. Дом: старик с дочерью, предлагает ему метать. Дочь в отчаянии, когда старик выигрывает. Шулер: старик проиграл дочь, чтобы... Доктор: окошко...»; позднее к этому добавлено несколько фраз, и закончена новая запись словами: «Банк [карточный]. Скоропостижная [смерть]».
Завершил Лермонтов этот сюжет не в художественном произведении, а в жизни: погиб через три месяца после создания первых глав повести...
Подробнее на сюжете и героях "Штосса" не останавливаюсь: обстоятельный разговор об этом – в книге "Александра и Михаил..." и на сайте с этой повестью.
Познакомился Лермонтов с «женщиной-ангелом» осенью 1838 года (у Карамзиных), и очень скоро они стали друзьями. В ноябре того же года Софья Николаевна Карамзина писала своей сестре, Екатерине: «В четверг Сашенька Смирнова провела у нас вечер вместе с Лермантовым […]. Какой она стала веселой и как похорошела!» А за пять дней до того вечера, в субботу, Михаил Юрьевич читал у Карамзиных свою поэму «Демон». Читал великолепно, тем более что обладал красивым, глубоким баритоном (исполнял не только романсы, а и оперные арии). И, конечно, Александрина влюбилась в него – если не раньше, то уж при чтении «Демона» несомненно. Было это 29 октября (ст. стиля) 1838 года: знаменательная дата в их отношениях. С тех пор Лермонтов не раз бывал в доме Смирновых. Сдержанный, немногословный Аким Шан-Гирей, один из самых объективных свидетелей жизни поэта, вспоминал: «По возвращении в Петербург [после первой ссылки] Лермонтов стал чаще ездить в свет, но [наи]более дружеский прием находил в доме у Карамзиных, у г-жи Смирновой и князя Одоевского».
Лермонтов и Смирнова-Россет не могли не сблизиться душевно: оба – с глубинно трагедийным мироощущением, заглушаемым волей к жизни и благодарным приятием самых простых ее радостей; оба склонны преодолевать тяжелые мысли общением с лёгкими, умными, остроумными людьми, а не погружаться в долгое уныние…
Видимо, в конце 1838 – начале 1839 года, в первые месяцы знакомства, Лермонтов написал стихотворение «К А.О.Смирновой»: «В простосердечии невежды // Короче знать Вас я желал…» Он обращался к великосветской красавице с репутацией покорительницы сердец: к ней в недавнем прошлом сватались В.А.Жуковский и князь С.М.Голицын, ею были очарованы Вяземский, Пушкин, Андрей Карамзин… – да просто все, кто был с нею знаком (а Пушкин в своих письмах постоянно убеждал жену не ревновать его к Смирновой). И вот новый поклонник, Лермонтов, записывает в ее альбом свое послание:
В простосердечии невежды
Короче знать Вас я желал,
Но эти сладкие надежды
Теперь я вовсе потерял.
Без Вас – хочу сказать Вам много,
При Вас – я слушать Вас хочу:
Но молча Вы глядите строго,
И я, в смущении, молчу!
Что ж делать? – речью безыскусной
Ваш ум занять мне не дано…
Всё это было бы смешно,
Когда бы не было так грустно.
Кстати, откуда «простосердечие невежды» у образованнейшего человека своего времени, отнюдь не простодушного к тому же, да и к лицемерию не склонного? В 1838 году Лермонтов был «невеждой» лишь в одной сфере знаний – именно в той, где Смирнова слыла истинным мудрецом: в знании придворного мира, его неписаных законов. Мир этот можно уподобить глубоководной реке, величавой и спокойной, уютно посверкивающей на солнце серебристыми бликами, тогда как в ее глубине бьют скрытые от глаз родники, рождаются, кипят вихри, водовороты, что губят непосвящённого в одно мгновенье... В этой сфере она оставалась наставником поэта еще и в 1840 году, ибо два года познания «большого света» не сделали его своим там, где она была своей с семнадцати лет. После первой дуэли она пыталась помочь ему, спасти от ссылки, – но он был плохим учеником в овладении теми искусствами, которыми отлично владел грибоедовский Максим Петрович; хорошо усвоил он только одно наставление: хранить тайну о них самих...
Осенью 1840 года Александра Осиповна сочла возможным предоставить это лермонтовское послание – вместе с пушкинским из ее же альбома – А.Краевскому для публикации, но прибегла к двум мерам предосторожности: изъяла первую строфу и не указала время создания стихов; таким образом из несколько вольного признания нового знакомца стихотворение превратилось в демонстрацию их далеких отношений даже через два года после знакомства.
Михаил Юрьевич в «Штоссе» еще сильнее подчеркивает отсутствие какой-либо близости между главными героями, поскольку их внешность явно для слушателей, которым он читал три первые главы, «списана» с реальных лиц – самого Лермонтова и Смирновой-Россет. Но и до сих пор в сборниках Лермонтова не атрибутировано стихотворение (т.е. не установлено, к кому оно обращено) «Мне грустно потому, что я тебя люблю...» да и ряд других посланий 1838–1841 годов, где есть полная искренность, открытость, но без указания адресата.
Александра Осиповна всю жизнь вынуждена была вести себя очень осторожно, так как благополучие ее семьи во многом зависело от расположения царского семейства. Даже в дневнике она позволяла себе «легкомысленную болтовню» лишь о тех своих поклонниках, к которым была равнодушна и потому не опасалась ни ложных кривотолков, ни раскрытия истины в отношениях с ними. Наиболее лаконична и «отстранённа» она именно при упоминаниях о Лермонтове. Два с половиной года пребывания с ним в одном светском дружеском кругу, по всей логике, должны были дать больше «конкретностей», чем несколько деталей о возникновении всем известного по «Отечественным запискам» послания «В простосердечии невежды...»:
«Альбом был всегда на столике в моем салоне. Он пришел однажды утром, не застал меня, поднялся, открыл альбом и написал эти стихи…»
Всё, что позволила себе Александра Осиповна в автобиографических Записках, – это перенести в них из своего альбома лермонтовское послание целиком, вместе с первой строфой, да несколько раз упомянуть о Лермонтове как о гениальном поэте, процитировав «Ангела» (1831) и «Молитву» (1839). Никаких жизненных сценок, на которые она была великая мастерица, никаких намёков на что-то личное между ними. Лермонтов открыто существует в воспоминаниях Смирновой-Россет лишь как великий поэт, не имеющий к ней никакого отношения, и как автор единственного, «случайного» послания к ней; даже о «Штоссе» она ничего не говорит, хотя о ней как о прототипе Минской упоминают многие современники. Скрыто же Лермонтов присутствует в ее воспоминаниях больше, чем кто-либо иной, – под именем Николая Киселёва. Атмосфера бесед с этим "условным" собеседником вполне может быть отражением реальной атмосферы бесед с любимым, давно ушедшим из жизни, но не из сердца Александрины.
Малейшее подозрение в интимных отношениях между одной из приближённых к царскому семейству дам и таким независимым писателем, как Лермонтов, угрожало спокойной жизни Александры Осиповны. И потому стихи о жгучей страсти к ней он писал в чужие альбомы, не скрывая, что владелица альбома не является их адресатом. К таковым я отношу в первую очередь стихотворение «Любовь мертвеца» (впрочем, не в первую, а вслед за уже упомянутым «Мне грустно потому, что я тебя люблю…»):
...Коснётся ль чуждое дыханье
Твоих ланит,
Моя душа в немом страданье
Вся задрожит.
Случится ль, шепчешь, засыпая,
Ты о другом,
Твои слова текут, пылая,
По мне огнём...
К Смирновой-Россет могло быть обращено и стихотворение, вписанное в альбом князя В.Ф.Одоевского (l84l):
Они любили друг друга так долго и нежно,
С тоской глубокой и страстью безумно-мятежной...
Но, как враги, избегали признанья и встречи,
И были пусты и хладны их краткие речи...
Последняя строка относится, конечно же, к их поведению на людях. Их частые встречи и у Карамзиных, Ростопчиных, Одоевских, и в доме самой Смирновой скрыть было невозможно, а потому они демонстрировали светски-формальный характер этих встреч. На случай вопросов у Александры Осиповны были заготовлены, «отработаны» дежурные объяснения, вошедшие в «Баденский роман»: «Я была почти всегда окружена мужчинами: Жуковский, Вяземский, Пушкин, Плетнёв, несколько иностранцев – и ни от кого из них не слышала двусмысленного слова" (с. 255); "Поэтам нужен идеал, и они, не знаю почему, нашли его во мне. Лучшего не было под рукою" (с. 284).
Степень осторожности Александры Осиповны становится ясной, когда несколько раз наткнёшься в ее мемуарах на оговорки типа: «Да, но я там [у Карамзиных] не всякий вечер бывала, я более из дворца ездила к графине Нессельроде», – в то время как дом Карамзиных был в истинном смысле родным для нее с осени 1828 года на многие годы. Такая осторожность не покидает ее и после смерти Николая I: она дружна с его дочерьми, к великой княгине Марии Николаевне время от времени обращается с ходатайствами по поводу своих друзей, – а Мария Николаевна, как мы помним, была инициатором создания пасквиля на Лермонтова – бездарного романа В.Соллогуба «Большой свет».
Можно усомниться в жарком взаимном чувстве Лермонтова и Россет из-за разницы в их возрасте: ко времени их встречи Михаилу Юрьевичу было 24 года, Александре Осиповне – 29. Но, думается, эти пять лет ничего не значат, когда речь идет о такой красавице и умнице, как Александра Осиповна (умнице – по-женски, при всей глубине и широте восприятия мира), и столь взрослом человеке, как Лермонтов, – взрослом «опытом мысли» даже больше, чем опытом жизни, хотя и жизненных испытаний к своим 24-м годам он перенёс немало. Напомню и о ее романе с человеком еще более юным: предположительно в 1844 году (в ее мемуарах год обычно указан недостоверно) Александра Осиповна познакомилась с Юрием Фёдоровичем Самариным (1819–1876), известным впоследствии философом, государственным деятелем, публицистом. Самарин влюбился в нее, и они стали друзьями. Это – к вопросу о разнице в возрасте.
Но бог с ним, с возрастом. В 40-е же годы сдружилась Смирнова и с Гоголем, хотя до этого они знали друг друга давно и оставались всего лишь добрыми знакомыми: Чем вызван интерес капризной красавицы, всегда окружённой поклонниками, к этим двум «поклонникам», и именно в начале – середине 40-х годов, не раньше и не позже? Для меня ответ ясен: оба они были связаны в ее сознании с Лермонтовым – высоко ценили его, встречались с ним в Москве в последние годы его жизни: оба – в мае 1840-го, а Самарин еще и в апреле 1841-го, перед самым отъездом поэта на Кавказ.
Конечно, грустный вымысел – история Лугина, но не вымысел – психологическая характеристика современного поколения в первой картине «Штосса» (приводящая на память лермонтовскую «Думу»); не вымысел – и страстная тяга героев друг к другу вопреки власти «старика» над их душами. «Женщина-ангел» третьей главы поначалу кажется новым персонажем, ничего общего не имеющим с земной красавицей первой главы, – на самом деле как герой, Лугин, остаётся прежним, только попадает в заколдованный мир, так остаётся прежней и героиня – она лишь попала в плен к старику еще раньше, чем сам Лугин...
Насколько же остро пронзила его душу судьба красавицы-фрейлины, чтобы так трагически изобразить, так глубоко осмыслить ее историю! И после этого мы равнодушно упоминаем Александру Осиповну в биографиях Лермонтова и в комментариях к его произведениям только как адресат стихотворения «В простосердечии невежды...» да прототип Минской в «Штоссе», вновь отдавая ее «старикам» (писателям предыдущего поколения) и не подозревая о том, что она могла быть самой сильной, самой настоящей его любовью, человеком ему «в рост» (говоря словами М.Цветаевой). Я считаю, что к ней обращены первые строки «Валерика» (1840): «Я к Вам пишу: случайно; право, // Не знаю, как и для чего...» И, естественно, последние строки этого лирико-философского послания.
В 1838–1841 годах Лермонтов ухаживал за многими светскими красавицами, сам порой удивляясь своему успеху у них, не осознав еще, видимо, что женщины ценят в мужчинах прежде всего ум, талант, внутреннюю силу, а не чисто внешнее обаяние; внешнего обаяния он в себе не находил (об этом подробно – в «Штоссе») и потому сам порой не верил в любовь Александрины, старался заглушить боль от ревнивых подозрений легкомысленными, чисто внешними «романами» со светскими красавицами, писал лестные для них стихи в их альбомы, – но при всём этом не был способен, подобно бабочке, порхающей с цветка на цветок, то и дело менять предмет увлечения: это попросту невозможно при его глубокой, страстной натуре.
Исследователи, сбившись со счёта в его поклонницах последних лет, в конце концов решили, что сам он всю жизнь любил только Вареньку Лопухину, остальное – «от лукавого». Да, конечно, он любил ее до конца жизни – прежде всего как воспоминание о первом светлом, ничем не омрачённом, взаимном чувстве. Но с августа 1832 года (отъезд из Москвы) и до конца жизни он виделся с нею считанное число раз. Зная страстную, деятельную натуру Лермонтова, невозможно поверить, что девять лет он прожил только мыслями о ней.
Из-за безнадёжной (хотя и взаимной) любви к Россет мог предельно обостриться трагизм его мироощущения последних лет – и вызвать горький упрёк самому Творцу (стихотворение "Благодарность"), вырвавшийся у поэта примерно в то же время, когда написано стихотворение «Отчего», в 1840 году:
Мне грустно потому, что я тебя люблю,
И знаю: молодость цветущую твою
Не пощадит толпы коварное гоненье.
За каждый светлый миг иль сладкое мгновенье
Слезами и тоской заплатишь ты судьбе.
Мне грустно... потому, что весело тебе.
Если связывать «Отчего» с М.А.Щербатовой, как указывается (с пометкой: «предположительно») в лермонтовских сборниках, то ни «молвы коварное гоненье» в «Отчего», ни «отрава поцелуя» в «Благодарности» необъяснимы: княгиня Мария Алексеевна Щербатова (1820–1879) была юной вдовой, свободной в своих увлечениях; она любила Лермонтова, и при желании ему ничто не мешало соединить с нею свою судьбу. Ничто – кроме любви к другой...
Думаю, прекрасная пленница заколдованного мира виделась поэту, и когда он создавал одно из последних своих стихотворений – «Сон»:
…И снился мне сияющий огнями
Весёлый пир в родимой стороне.
Меж юных жён, увенчанных цветами,
Шёл разговор весёлый обо мне.
Но в разговор весёлый не вступая,
Сидела там задумчиво одна,
И в грустный сон душа ее младая
Бог знает чем была погружена...
Здесь та же, что и в «Штоссе», атмосфера полусна-полуяви, горестного предвидения без возможности что-либо изменить, тайны двоих, никому не открываемой.
Тема сна, призрачной действительности, колеблющейся между «явью и навью», вообще характерна для лермонтовских стихов 1841 года: видимо, «Штосс» с его картинами заколдованного мира не отпускал поэта. Перекликается образ "небывалой красавицы" из «Штосса» и с женским образом из менее горестного, чем «Сон», стихотворения 1841 года – «Из-под таинственной, холодной полумаски...»:
...И создал я тогда в моем воображенье
По лёгким признакам красавицу мою;
И с той поры бесплотное виденье
Ношу в душе моей, ласкаю и люблю...
И «сияющий огнями вечерний пир», и бал-маскарад с его таинственными полумасками легко согласуется с образом Александры Осиповны: она вынуждена была, независимо от личных склонностей, много времени проводить в празднествах – по своему положению придворной дамы, украшающей собою безжизненные в отсутствие человеческого ума и красоты пышные палаты «стариков» (отсюда и мода в «большом свете» не только на красавиц, но и на Жуковских, Пушкиных, Лермонтовых, чьими живыми страстями питался этот эфемерный мир).
О кратком увлечении Лермонтова княгиней Марией Щербатовой (скорее, просто о восхищении ее красотой), я упоминала, цитируя стихотворение "Отчего". В связи с дуэлью между Лермонтовым и Барантом ходили сплетни о любовном романе между поэтом и юной вдовой, однако на самом деле романа не было, а потому рассказывать о Марии Щербатовой подробнее не стану. Лишь добавлю к уже сказанному, что ей посвящено стихотворение "На светские цепи, // На блеск утомительный бала..." (1840). В 1839–1840 годах Лермонтов посвящал "мадригалы" не только ей, а и Эмилии Мусиной-Пушкиной, и Александре Воронцовой-Дашковой, и Марии Соломирской, – но это всего лишь проявление внимания к ним, восхищения их красотой, благородством.
Упоминала я выше и о другом "кратком увлечении" Лермонтова – Евдокией Ростопчиной. Вот об этом поговорим подробнее.
С графиней Евдокией Петровной Ростопчиной (1811–1858; урождённой Сушковой) Лермонтова связывало московское детство. В те годы Мишель мог встречать ее у общих знакомых, на различных празднествах, в частности в Московском Благородном собрании (ныне это – здание Дома Союзов в начале улицы Большая Дмитровка, "по соседству" с Театральной площадью). Близкой дружбы между ними тогда не возникло, но Мишель восхищался ее красотой, живостью, обаянием, оценил первую ее публикацию в журнале в 1831 году – стихотворение "Талисман". К новогоднему балу 1832 года он написал несколько "мадригалов" (похвальных посланий), в том числе мадригал "К Додо". Привожу первую из четырёх строф этого мадригала:
Умеешь ты сердца тревожить,
Толпу очей остановить,
Улыбкой гордой уничтожить,
Улыбкой нежной оживить...
Воспоминания о Москве сделали их отношения при встрече в Петербурге особенно тёплыми, и, кажется, в 1841 году намечался даже очередной роман в жизни обоих, – но в одном из последних стихотворений поэта, которое я отношу именно к Ростопчиной, увлечение ею, пожалуй, отвергается: "Нет, не тебя так пылко я люблю..."
Думаю, именно об отношениях с Ростопчиной писал Лермонтов своему другу, сослуживцу по Кавказу, Александру Бибикову: "...у меня началась новая драма, которой завязка очень замечательная, зато развязки, вероятно, не будет, ибо 9-го марта отсюда уезжаю заслуживать себе на Кавказе отставку..." (письмо без даты; судя по содержанию, написано во второй половине февраля 1841 г.). "Драма" (или любовный роман) на самом деле всё-таки имела если и не "развязку", то продолжение, поскольку уехал Лермонтов не в марте, а 14-го апреля.
Ростопчина написала трогательное стихотворение "На дорогу. Михаилу Юрьевичу Лермонтову"; приведу первую и последнюю его строфы:
Есть длинный, скучный, трудный путь...
К горам ведёт он, в край далёкой;
Там сердцу в скорби одинокой
Нет где пристать, где отдохнуть! [...]
Но заняты радушно им
Сердец приязненных желанья, –
И минет срок его изгнанья,
И он вернётся невредим!
Вскоре после отъезда Лермонтова на Кавказ вышел в свет сборник стихов Ростопчиной, и она поспешила передать экземпляр этой книги бабушке Лермонтова, Елизавете Алексеевне, для пересылки внуку, с дарственной надписью: «Михаилу Юрьевичу Лермонтову в знак удивления к его таланту и дружбы искренней к нему самому. Петербург, 20 апреля 1841». Посылка с этой книгой пришла в Пятигорск, когда Михаила Юрьевича уже не было в живых...
Сам Лермонтов перед отъездом на Кавказ подарил Додо (как звали ее друзья) альбом, записав в него свое стихотворение "Графине Ростопчиной"; вот первая его половина:
Я верю, под одной звездою
Мы с Вами были рождены;
Мы шли дорогою одною,
Нас обманули те же сны.
Но что ж! – от цели благородной
Оторван бурею страстей,
Я позабыл в борьбе бесплодной
Преданья юности моей.
Предвидя вечную разлуку,
Боюсь я сердцу волю дать;
Боюсь предательскому звуку
Мечту напрасную вверять...
Ростопчина откликнулась на этот подарок стихотворением "Пустой альбом", написанным уже после гибели Лермонтова, в ноябре 1841 года. Приведу часть этого стихотворения:
О! живо помню я тот грустный вечер,
Когда его мы вместе провожали,
Когда ему желали дружно мы
Счастливый путь, счастливейший возврат;
Как он тогда предчувствием невольным
Нас испугал! Как нехотя, как скорбно
Прощался он!.. Как верно сердце в нём
Недоброе, тоскуя, предвещало!
Откликнулась она на гибель Лермонтова и более ранним стихотворением (август 1841 г.) "Нашим будущим поэтам", с горькими строками о судьбе отечественных гениев:
Не просто, не в тиши, не мирною кончиной, –
Но преждевременно, противника рукой –
Поэты русские свершают жребий свой,
Не кончив песни лебединой.
Евдокии Ростопчиной мы обязаны объективным свидетельством о том, каким был Лермонтов в обществе, "в свете". В августе 1858 года она написала обстоятельное письмо Александру Дюма. Он в ту пору, путешествуя по России, находился на Кавказе, всюду слышал о Лермонтове, удивлялся всеобщей любви к его стихам и немало стихотворений перевёл на французский язык (по подстрочникам, порой тут же создаваемым его русскими собеседниками). С графиней Ростопчиной Дюма был знаком по Парижу (в 1845–1847 годах она с семьёй путешествовала по Европе) и попросил ее рассказать о Лермонтове. Вот что она написала ему о последних месяцах пребывания Михаила Юрьевича в Петербурге в 1841 году:
"Отлично принятый в свете, любимый и балованный в кругу близких, он утром сочинял какие-нибудь прелестные стихи и приходил читать их нам вечером. Весёлое расположение духа проснулось в нём опять в этой дружественной обстановке, он придумывал какую-нибудь шутку или шалость, и мы проводили целые часы в весёлом смехе благодаря его неисчерпаемой весёлости".
Как я уже говорила, Лермонтов вовсе не был угрюмым, замкнутым в обществе, каким описал его И.С.Тургенев, на самом-то деле никогда его не видавший (об этом обстоятельно сказано в моей статье "Об ошибках в современном лермонтоведении", не раз опубликованной в журналах и имеющейся на сайте: http://lermontov1814.narod.ru).